
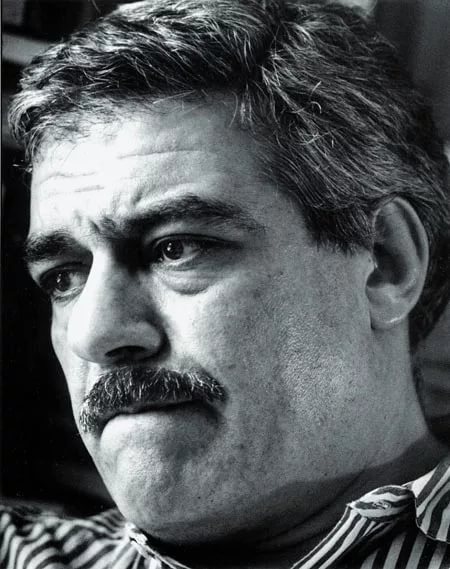
«Толстый застенчивый мальчик... Бедность... Мать самокритично бросила театр и работает корректором...»
О школьных годах – с той же честностью:
«Бесконечные двойки... Равнодушие к точным наукам... Совместное обучение... Девочки... Алла Горшкова... Мой длинный язык... Неуклюжие эпиграммы... Тяжкое бремя сексуальной невинности...»
О первых литературных опытах - с грустной улыбкой:
«1952 год. Я высылаю в газету "Ленинские искры" четыре стихотворения. Одно, конечно, про Сталина. Три - про животных...
Первые рассказы. Они публикуются в детском журнале "Костер". Напоминают худшие вещи средних профессионалов...»
Впоследствии он настолько далеко ушел за пределы «худших вещей средних профессионалов», что для себя стал считать звание «Литератор» высшим в мире, а сравнение с Куприным достаточным, чтобы оценить качество своих произведений, густо замешанных на поэтике улицы и полных симпатии и сочувствия к «самому обычному неудачнику»:
«Передо мной стоял человек кавказского типа в железнодорожной гимнастерке. Левее - оборванец в парусиновых тапках с развязанными шнурками. В двух шагах от меня, ломая спички, прикуривал интеллигент. Тощий портфель он зажал между коленями… Сколько же, думаю, таких ларьков по всей России? Сколько людей ежедневно умирает и рождается заново?»
Он служил в армии и, по его признанию, в частях, охранявших лагеря, в которых мотали срок уголовники. Из впечатлений охранной службы сложился сборник «Зона». В «Зоне» Довлатов почти ничего не выдумал и почти ничего не приукрасил. Он просто и с блеском выразил то «невероятное», ради чего, быть может, садился за пишущую машинку:
«Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались заточенными рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировкой и насиловали коз. В этом мире убивали за пачку чая.
В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, отталкивающим настоящим и трагическим будущим.
Я дружил с человеком, засолившим когда-то в бочке жену и детей.
Мир был ужасен. Но жизнь продолжалась. Более того, здесь сохранялись обычные жизненные пропорции. Соотношение добра и зла, горя и радости - оставалось неизменным».
В повести «Заповедник», созданной на основе личного опыта работы экскурсоводом в пушкинском Михайловском, Довлатов с тем же блеском выразил нечто еще более «невероятное», но оказавшееся повседневностью «зоны» паломничества к Пушкину:
« - Тут все живет и дышит Пушкиным, - сказала Галя, - буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота… Цилиндр, крылатка, знакомый профиль…
Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач.
- Борька, хрен моржовый, - дико заорал он, - ты ли это?!»
Писателя, настолько далеко отступившего за рамки канонов советской литературы, нигде не печатали. Талант значения не имел. Имел значения Обком. Как орган главного и единственно верного мнения. Но Довлатов писать не прекращал, поэтому его стали вызывать в компетентные органы. В органах ему инкриминировали злопыхательство, клевету, антисоветчину и намеренное очернение самой светлой в мире, то есть советской действительности. Однажды посадили на пятнадцать суток. За то, что Довлатов якобы спустил с лестницы милиционера. Короче, ему всячески намекали, что всего того, что он пишет, писать ни в коем случае нельзя. Заподло. В конце концов ему предложили: или глубокая ссылка, или далекая Америка. После долгих мучений он выбрал Америку. Страну, в которую двумя годами раньше уехали его жена и дочь. И улетел за океан с не очень большим, но очень личным материальным богатством:
«Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой».
Большая часть его литературного богатства было уже переправлена. Рукописи были сняты на микропленку, и «чудесной француженкой» вывезены из Ленинграда – более двух тысяч страниц.
Многие из этих страниц за несколько лет удалось перевести на бумагу с помощью фотоувеличителя. Они увидели свет в буквальном смысле. На основной родине «проклятого капитализма», а не на могучей родине «развитого социализма», который к тому же вскоре весь и рухнул.
В Америке Довлатов и его друзья издавали знаменитую и «самую большую в мире» газету на русском языке. Она называлась «Новый американец». «В ней сорок восемь страниц так называемого таблоидного размера, она выходит каждый вторник». Ради чего было предпринято это беспримерное издание? Ради того, чтобы, по словам Довлатова, «реализовать свои человеческие права: право на творчество,.. священное право быть неправым, т.е. право на заблуждение, на ошибку». Он и его друзья эти права реализовали почти в полной мере, но делового опыта так и не приобрели. «Новый американец» закрылся. На момент закрытия главный редактор газеты, Сергей Довлатов, имел 89000 долларов личного долга и еще более глубокое убеждение, что смешное в жизни встречается «не реже, чем кошмарное».
Он умер от обширного инфаркта в 1990-м году в машине скорой помощи, несшейся по мостовым Нью-Йорка. Спустя одиннадцать лет в бывшем Ленинграде установили в его честь мемориальную доску. Фуршет по случаю установки доски оформили в стиле семидесятых годов: в комнате стоял стол, на столе – пишущая машинка, рядом - стакан водки и соленый огурец на блюдце. Присутствующие в качестве тоста произносили:
«Довлатов Сергей Донатович, 1941 года рождения, оформлен литсотрудником газеты «За кадры верфям» с 5 октября 1965 года с окладом 88 рублей… Уволен 16 апреля 1969 года по собственному желанию».
В конце своей краткой автобиографии Довлатов написал: «Очевидно, мне суждено было побывать в аду».
Пунктирное описание этого реального и для нас «заветного» местопребывания – во всех его книгах.
Владимир Вестер